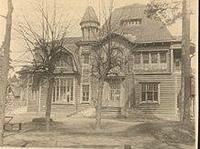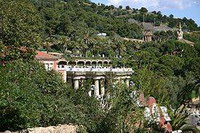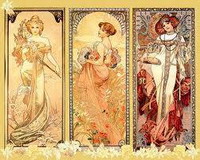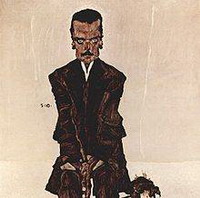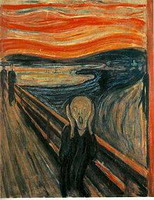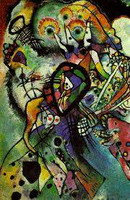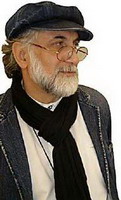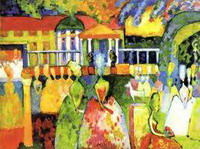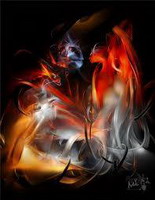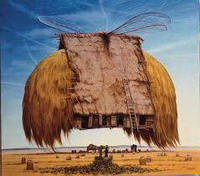Перебрасываем мостик?
| О модерне - О модерне |
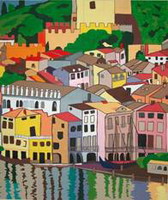
Все это началось по крайней мере в 60-е годы. Стихи Н.Гумилева, М.Цветаевой не только перепечатывали на машинке, но и переписывали от руки. Если томик поэта “Серебряного века” прорывался в Библиотеке поэта, он сразу обретал двадцати-тридцатикратную рыночную цену. Скромный сборник “Тарусские страницы” произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Школьники нашего поколения с изумлением вспоминают, как сначала открывали для себя А.Ахматову, позже — Ф.Тютчева и только потом — А.Пушкина! “Возвращенные имена”? Верно. Но верно и то, что когда в 1960 году вышел впервые однотомник И.Шмелева, в восхищение приводил не написанный в традициях бытописательства Х1Х века “Человек из ресторана”, а вполне принадлежащая эстетике модерна “Неупиваемая чаша”.
А может, мы инстинктивно стремились перебросить мостик через период разрушения национальных традиций? Такое в русской истории было уже дважды. Впервые в ХШ веке, во времена иноземных вторжений с Запада и с Востока. Тогда даже в богатом Новгороде, никем не разоренном и не оккупированном примерно на шесть десятилетий прервалось каменное строительство. А когда возобновилось, зодчество вернулось строго в точку разрыва: церковь Николы на Липне 1292 года стремится повторить церковь Рождества в Перыни 1230-х годов постройки. И икона Николы Липенского из одноименного храма явно связана с иконой Николы из Духова монастыря начала ХШ века. Если традиция теплится, она восстанавливает разрыв, перешагивая через время упадка, разорения, порабощения.
Второй мостик был переброшен после смерти Петра 1, отвергавшего не только национальные художественные вкусы, но и то, что его подданным нравилось на Западе — высокое католическое барокко. Когда в 1714 году царь запретил каменное строительство по всей России кроме Петербурга, создатели шедевров нарышкинского барокко в новой столице не пригодились. Там строили европейские посредственности, создавали вымышленную Петром “Голландию”. И что же ? После отмены запрета в 1728 году, даже раньше — после смерти Петра в 1725, по всей России обращаются к прерванной традиции, а петровский Петербург остается аппендиксом русской культуры, практически не вызвавшим подражаний. Снова чужое отторгнуто, мостик переброшен, традиция продолжает жить.
Когда уже в 60-е годы все полюбили зодчество модерна, тогда официально презиравшееся и активно истреблявшееся, пожалуй, это означало, что общество подсознательно отвергло революцию, ведь именно архитектурная традиция революцией была оборвана наиболее жестко. И вряд ли прав А.Зиновьев, ныне обвиняющий русский народ в том, что он “совершал предательство в отношении самого себя”, “сбрасывая с себя груз исторической миссии”.
Русские провинились исторически не предательством, а этатизмом, сохранением остатков уважения к государству. Тем, что позволили подлинным предателям разрушать свою страну, тогда как необходимо было разрушать чужое государство! Кстати, те предатели, и номенклатурные, и диссидентские, ненавидели только сталинизм, революцию они обожали и обожают. Задумаемся: Иуда — самый жуткий образец и образ предателя. Но если кому-нибудь удалось “во-время” предать Иуду, остался бы в памяти человеческой этот фантастический персонаж предателем? Или же наоборот, великим праведником?!
| Читайте: |
|---|